«А всё-таки я луковку подала…»
Август 31, 2020 в Маргарита Серебрянская, Культура, Книги, Мысли вслух, просмотров: 3948

— .... Ишь ведь оба бесятся! — прошипел Ракитин, с удивлением рассматривая их обоих, — как помешанные, точно я в сумасшедший дом попал. Расслабели обоюдно, плакать сейчас начнут!
— И начну плакать, и начну плакать! — приговаривала Грушенька. — Он меня сестрой своей назвал, и я никогда того впредь не забуду! Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, а всё-таки я луковку подала.
— Каку таку луковку? Фу, чёрт, да и впрямь помешались!
Ракитин удивлялся на их восторженность и обидчиво злился, хотя и мог бы сообразить, что у обоих как раз сошлось всё, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни. Но Ракитин, умевший весьма чувствительно понимать всё, что касалось его самого, был очень груб в понимании чувств и ощущений ближних своих — отчасти по молодой неопытности своей, а отчасти и по великому своему эгоизму.
— Видишь, Алёшечка, — нервно рассмеялась вдруг Грушенька, обращаясь к нему, — это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь, я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня, я её, ещё дитёй была, от моей Матрёны, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это: «Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла. И не осталось после неё ни одной добродетели. Схватили её черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель её стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель её припомнить, чтобы богу сказать. Вспомнил и говорит богу: она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему бог: возьми ж ты, говорит, эту самую луковку, протяни ей в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь её вон из озера, то пусть в рай идёт, а оборвётся луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он её осторожно тянуть и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидали, что её тянут вон, и стали все за неё хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и почала она их ногами брыкать: „Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша“. Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошёл». Вот она эта басня, Алёша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели. И не хвали ты меня после того, Алёша, не почитай меня доброю, злая я, злющая-презлющая, а будешь хвалить, в стыд введёшь. Эх, да уж покаюсь совсем. Слушай, Алёша: я тебя столь желала к себе залучить и столь приставала к Ракитке что ему двадцать пять рублей пообещала, если тебя ко мне приведёт. — Стой, Ракитка, жди! — Она быстрыми шагами подошла к столу, отворила ящик, вынула портмоне, а из него двадцатипятирублёвую кредитку.
— Экой вздор! Экой вздор! — восклицал озадаченный Ракитин.
— Принимай, Ракитка, долг, небось не откажешься, сам просил. — И швырнула ему кредитку.
— Ещё б отказаться, — пробасил Ракитин, видимо сконфузившись, но молодцевато прикрывая стыд, — это нам вельми на руку будет, дураки и существуют в профит умному человеку.
— А теперь молчи, Ракитка, теперь всё, что буду говорить, не для твоих ушей будет. Садись сюда в угол и молчи, не любишь ты нас, и молчи.
— Да за что мне любить-то вас? — не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. Двадцатипятирублёвую кредитку он сунул в карман, и пред Алёшей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так, чтобы тот и не узнал, а теперь от стыда озлился. До сей минуты он находил весьма политичным не очень противоречить Грушеньке, несмотря на все её щелчки, ибо видно было, что она имела над ним какую-то власть. Но теперь и он рассердился:
— Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?
— А ты ни за что люби, вот как Алёша любит.
— А чем он тебя любит и что он тебе такого показал, что ты носишься?
Грушенька стояла среди комнаты, говорила с жаром, и в голосе её послышались истерические нотки:
— Молчи, Ракитка, не понимаешь ты ничего у нас! И не смей ты мне впредь ты говорить, не хочу тебе позволять, и с чего ты такую смелость взял, вот что! Садись в угол и молчи, как мой лакей... (роман «Братья Карамазовы», Ф.М. Достоевский)
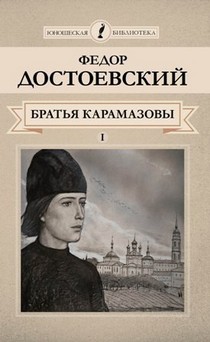 16 сентября 1879 года Фёдор Михайлович Достоевский писал Николаю Александровичу Любимову: «Особенно прошу хорошенько прокорректировать легенду о луковке. Это драгоценность, записана мною со слов крестьянки, и, уж конечно, записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор никогда не слыхал».
16 сентября 1879 года Фёдор Михайлович Достоевский писал Николаю Александровичу Любимову: «Особенно прошу хорошенько прокорректировать легенду о луковке. Это драгоценность, записана мною со слов крестьянки, и, уж конечно, записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор никогда не слыхал».
В романе «Братья Карамазовы» притча о луковке занимает одно из центральных, ключевых мест. Это так называемый «текст в тексте». Основоположник Александрийской богословской школы Климент Александрийский считал, что притча — это такой способ выражения мысли, при котором само явление не называется, но через изложение какой-нибудь простой вещи делается намёк на более глубокий истинный смысл; сюжет притчи чаще всего строится как подыскание ответа к определённой задаче.
Легенда о луковке — фольклорный в своей основе текст, близкий к апокрифической литературе. У Достоевского он становится ключом к пониманию главы, к толкованию противоречивого образа Грушеньки, умеющей заметить и в короткой человеческой жизни, и в мимолётных явлениях природы знаки чего-то иного — вневременного, вечного, существующего независимо от людских желаний и страстей. Диалектика духовных исканий и философских построений у писателя определяется двумя исходными темами: темой падения человека и темой его спасения, восстановления вечных ценностей.
В романе «Братья Карамазовы» притчи звучат, как правило, в момент необычайного душевного потрясения героев, когда им следует выбрать путь, от которого зависит вся дальнейшая судьба.
... Изначально притча была одним из жанров назидательной литературы и представляла собой образную иллюстрацию некоего морального положения. В Древней Руси под притчей понимали и пословицу, и меткое изречение, и басню. Данная в литературной энциклопедии под редакцией А.В. Луначарского трактовка жанра также строится на сопоставлении притчи и басни. Известный филолог Сергей Аверинцев в литературно-энциклопедическом словаре пишет: «Притча — это дидактико-аллегорический жанр литературы, в основных своих чертах близкий басне». «Дидактичность притчи в средние века считалась её основополагающей чертой, в силу чего термин „притча“ иногда заменяет первоначальное жанровое определение (сказание, повесть) в сочинениях нравоучительного характера», — пишет директор Института филологии Сибирского отделения РАН Елена Ромодановская.
Ряд исследователей (В. Бочаров, М. Ильина, Д. Чавчанидзе и др.) развивают мысль о свойственной притче параболичности. Принцип параболы заключается в том, что «повествование удаляется от современного автору мира, иногда вообще от конкретного времени, конкретной обстановки, а затем, как бы двигаясь по кривой, снова возвращается к оставленному предмету и даёт его философско-этическое осмысление и оценку». Достаточно полно обозначает характерные признаки притчи литературовед Валерий Тюпа. Исследователь выделил установку притчи на устное бытование (сказочную форму), неразвёрнутость сюжета, сжатость характеристик и описаний, неразработанность характеров, акцентированную роль «укрупнённых» деталей, строгую простоту композиции, лаконизм и точность выражения, опору рассказчика на некоторую предварительную осведомлённость и соответствующую позицию слушающего, на его предуготованность к адекватному реагированию, интерес притчи к текущей жизни с выходом на универсалии человеческого бытия. Главной чертой стиля притчи Елена Ромодановская выделяет абстрагирование, которое «в наибольшей степени соответствует „символическому“ смыслу повествования». Известный советский филолог, профессор Дмитрий Сергеевич Лихачёв указывает, что «абстрагирование вызывалось попытками увидеть во всём „временном“, „тленном“, в явлениях природы, в человеческой жизни, в исторических событиях символы и знаки вечного, вневременного, „духовного“, „божественного“». В связи с этим сюжет притчи чаще всего строился как «подыскание ответа к заданной задаче».
Позднее об этом же писал Сергей Добротворский: «Искусственная постановка в те или другие отношения и положения явлений природы и жизни для выражения какой-либо избранной мысли или же, наоборот, применение какого-либо явления природы и жизни к задуманной мысли, основанное не на внутренней связи между самим явлением и мыслию, а на случайном и своеобразном толковании — вот зародыш и основа притчи».
Непревзойдёнными, вершинными образцами притчевого слова по праву считаются библейские притчи. Однако в Библии притчами называются не только иносказательные тексты, но и те, которые содержат в себе обобщение, выражают универсальный или духовный смысл произведения. Так, притчи Соломона — это нравственные или философские сентенции, как правило, не содержащие иносказания или аллегории, близкие народным паремиям (для справки: паремия — устойчивая фразеологическая единица). Евангельские притчи могут иметь форму изречения, но чаще представляют собой краткие сюжетные рассказы (притча о блудном сыне, о мытаре и фарисее, о бедном Лазаре и т. д.). Подытоживая сказанное, можно определить притчу как жанр, для которого сущностным является установление связи события или явления с неким универсальным морально-нравственным законом, выявление в этом законе глубинного обобщения, смысла. При этом жанровая форма может быть вариативна. В последние десятилетия слово «притча» превращается в термин, происходит размывание жанровых границ, стремление отнести к притче любые условные формы — метафорические, символические, философские обобщения. Представление о притче смещается на содержательный уровень, что также размывает жанровые границы. Жанр притчи был неоднороден ещё в средние века; в этот период происходил процесс намеренного и искусственного присваивания тексту функций или имени притчи — «процесс опритчевания», который протекал на нескольких уровнях. На первом уровне автор преподносит аудитории текст как притчу, что связано с дидактической интенцией. На втором уровне происходит опритчевание аудиторией — когда читатель или слушатель понимает любой воспринимаемый текст как притчу. Связано это, в первую очередь, с гипертрофированным состоянием ожидания притчи«. Следствием такого расширенного понимания становится возникновение новых понятий: роман-притча, драма-притча, притчевость.
Так, профессор Владимир Иванович Крекотень отмечает, что притчей «может стать любое повествование, вне зависимости от его собственной жанровой природы. Параболой его делает не внутреннее качество смысла, образов, сюжета, а параболическая функция, для исполнения которой его приспосабливает повествователь. Практически единственным знаком, какой указывает, что перед нами парабола, в этом случае является параболический способ толкования сюжета повествователем. Этот способ основывается на том, что каждый элемент сюжетной структуры рассказа сопоставляется с каким-то отдалённым по своей природе от этого элемента предметом, в результате чего и вся система образов (а в ряде случаев механическая сумма образов) данного сюжета сопоставляется (часто механически) с какою-то отдалённою, чужою для себя системою (суммою) предметов». В XIX в. притча из канонического жанра становится скорее типом художественного сознания, способом осмысления художественной действительности. В современной модификации жанра своеобразно сочетаются «чувственная природа образа и осознанная сила идей». Причём эту диалектику жанра Сергей Аверинцев отмечал и в каноническом варианте притчи: «Притча интеллектуалистична и экспрессивна: её художественные возможности лежат не в полноте изображения, а в непосредственности выражения, не в стойкости форм, а в проникновенной интонации».
Одним из первых, кто предвосхитил новый подход к этому жанру, был Фёдор Михайлович Достоевский. Речь здесь идёт и об образце новой литературной притчи, и о широком вхождении притчи в роман «Братья Карамазовы», который многие литературоведы вообще называют «романом-притчей». Если исходить из традиционного понимания притчи как жанра, то такое наименование, конечно, будет допустимо только как метафорическое. Притчи в чистом виде в романах Достоевского нет: она присутствует там как сокрытая в сюжете. По мнению известного филолога Екатерины Струковой, корректнее было бы определение этого романа как «притчевого». Это определение подразумевает, что произведение содержит возможность притчевого прочтения, не отменяя другие варианты, но дополняя и расширяя их. Однако использование жанра притчи в контексте романа «Братья Карамазовы» — не литературный парафраз, а следствие изменяющейся цели и функции новой литературы. Вставные истории в романе получают притчевое значение в силу своих структурных и сюжетных характеристик, помогают соотнести сюжет с непреходящими истинами и по-настоящему раскрывают суть произведения. Во многих случаях можно говорить о наличии формальных признаков притчи. Как пишет Екатерина Струкова, «в изображаемом мире Достоевского парадоксальным образом сочетаются два противоположных качества: конкретика (обилие бытовых и даже натуралистических подробностей, исторических и социальных примет) и непластичность этого мира — фактически отсутствие интереса к вещам как таковым». Эти характеристики затрагивают и героев: каждый наделён возрастом, социальным статусом, характером, но всё это вовсе не объясняет его поступков. Объясняет же нечто иное — идея, которую он несёт. Фактически все предметы стремятся получить символическое обобщение, что приводит к поиску нового смысла. Притчевое мышление выявляется как на уровне схем, так и в жанровых формах — введение вставных новелл.
В этом отношении можно назвать притчей один из самых страшных «фактиков» из личной «коллекции» Ивана Карамазова: рассказ о растерзанном мальчике. Историю о мальчике, затравленном борзыми, Иван, по его собственным словам, прочёл в одном из сборников древностей, в «Архиве» или в «Старине»: «Это было в самое мрачное время крепостного права, ещё в начале столетия, и да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких (правда, и тогда уже, кажется, очень немногих), которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот живёт генерал в своём поместье в две тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. „Почему собака моя любимая охромела?“ Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в неё пустил и ногу ей зашиб. „А, это ты, — оглядел его генерал, — взять его!“ Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, наутро чем свет выезжает генерал во всём параде на охоту, сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребёночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... „Гони его!“ — командует генерал. „Беги, беги!“ — кричат ему псари, мальчик бежит... „Ату его!“ — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил на глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли...»
Уверенная ссылка Ивана на источник полученных сведений подчёркивает документальность факта. Несколькими штрихами характеризует он «власть предержащего», раскрывает морально-этический облик «блестящего» генерала: «Был тогда в начале столетия одни генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких... которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных». Дальнейшие события передаются кратко и лаконично. Вся история укладывается в двадцать строк, однако воздействие этой почти бесстрастно рассказанной истории так велико, что на провоцирующий вопрос Ивана: «Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять?..» — Алёша поначалу отвечает утвердительно.
«Фактик» Ивана Карамазова обладает всеми жанроопределяющими признаками притчи. Важную роль здесь играют притчевая риторика рассказа — «авторитарная риторика поучительного, монологизированного слова» — и характерное для притчи разделение участников события на поучающего и поучаемого. Опора на устную речь и непосредственное восприятие-сотворчество слушателей здесь не только очевидны, но и выполняют в романе важнейшую роль. В рассказе Ивана развёрнутые описания характеров заменены краткими, но предельно точными обозначениями положения персонажей, делающими их символически обобщёнными образами (генерал, мать, безгрешное дитя). Иванова «картинка» возводит единичный факт на уровень философского обобщения. Хотя запрограммированность рассказа Ивана на подтверждение его идеи, на первый взгляд, делает его рассказ не притчей (иносказанием), а иллюстрацией, на самом деле Иванов рассказ — именно притчевое иносказание со множественностью значений и параболичностью. Прямой смысл «фактика» в том, что позорное и жестокое в бытии крепостников рождено и воспитано деспотической системой, давшей им безраздельную власть над людьми. За трагическим фактом гибели ребёнка для Ивана вырастает та переполненность мира страданиями, которая заставляет его не принимать этот мир. Иван сам говорит брату Алёше, что берёт только детские страдания, чтобы яснее была мысль: «Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил».
«...В сотый раз повторяю — вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что всё равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками...»
«Эта история заставляет ставить мировые вопросы, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие?..» Мысль Ивана далеко отходит от конкретного рассказа о мальчике, но затем опять к нему возвращается, поворачивая ситуацию новой гранью и открывая в ней новый смысл и значение. Предначертанность развязки, желание автора привести повествование к заранее определённому выводу и позволяют считать данный рассказ философским иносказанием-притчей. Притчевый смысл всей «коллекции» «фактиков» становится несомненным, когда Иван задает Алёше знаменитый вопрос: «...Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребёночка...» Наряду со структурно-поэтическими признаками классической притчи (опора на устную речь, запрограммированность сюжета на раскрытие мысли героя, мощный философский контекст) в притче о мальчике просматриваются и новые черты: документальность «фактика», социальная острота, полная завершённость и «характерность» картинки, многозначность философско-символического смысла. История Ивана обобщена в вопросе Алёше: согласился ли бы тот быть архитектором здания судьбы человеческой, строящегося с целью осчастливить всех людей, но для постройки которого было бы необходимо замучить всего лишь одно крохотное создание, вот того самого ребёночка, в безмерном страдании бившего себя кулачком в грудь... Это своего рода обратная притча: она порождает не ответ, как традиционная дидактическая, а вопрос, подразумевающий определённый ответ, который и даёт Алёша сначала. Мораль притчи задана в вопросе.
На парадоксе основана и другая притча Ивана Карамазова (притчу рассказывает чёрт, но она, как частично и сам чёрт, является порождением больного сознания Ивана) — история философа, который, попав после смерти в ад, прошёл в полной тьме квадриллион километров до рая и в итоге «пропел осанну» тому, от чего рьяно отрекался. «За что купил, за то и продал», — так резюмировал эту историю чёрт, переводя её в пласт обыденного сознания. Эта философская притча тоже выглядит незавершённой, хотя и не содержит прямого вопроса.
Рассуждая только о сюжетных притчах, притчах-рассказах, мы не охватываем всего притчевого пласта в романе. А этот пласт оказывается неполным без учёта сравнений и пословичного слоя (нижней границы пласта). Притча ведь может существовать не только в виде сюжетного повествования, но и в виде сравнительных кратких суждений (именно такую функцию имеют библейские евангельские притчи), так называемых притчевых слов или изречений. Они распределены между персонажами неравномерно. Для одних использование притчевого слова характерно, для других — нет. Притчевые изречения, сравнения и собственно притчи чаще других используют старец Зосима, Дмитрий Карамазов, Грушенька Светлова. Практически не говорят притчами Смердяков, Ракитин, Катерина Ивановна Верховцева. Восприимчивость героя к притче свидетельствует о его определённой «принадлежности», причастности к области универсального, общечеловеческого знания. Герой избирает для себя некую притчу (как, например, поданная нищенке луковка у Грушеньки), символ («плачущее дитё» Мити) и ориентирует на это свою жизнь, ибо в задачи притчи всегда входило приобщение человека к законам нравственности, к идеальному образцу поведения. Сознательно использует притчевое слово старец Зосима. «И что за слово Христово без примера?» — восклицает он. Старец цитирует евангельские притчи: «Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш, и скажут все люди: «камень, который отвергли зиждущие, стал главой угла».
«...Ибо всё как океан, всё течёт и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдаётся...»
«... Злобною гордостью своей питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал».
Очень часто отец Зосима воспроизводит не всю евангельскую притчу, а только её ключевой образ-символ и на этой основе выстраивает собственное изречение: «...Нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу простолюдина, и не умрёт оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нём среди мрака, среди смрада грехов, как светлая точка, как великое напоминание...»
Или: «Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой».
Очень важную роль в данном контексте приобретает притча «О луковке», рассказанная Грушенькой Светловой. «Басню о луковке» (как её называет сама Грушенька) исследователи В.Е. Ветловская, А.Б. Криницын и другие однозначно относят к притчам. «Подать луковку» становится образным выражением нравственной мерки, на которую ориентируются и Грушенька, и Алёша Карамазов. «Сама я и есть эта баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели», — признаётся Грушенька.
«Что я тебе такого сделал? — умилённо улыбаясь, ответил Алёша, нагнувшись к ней и нежно взяв её за руки, — луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!..»
Использование этой притчи оказывается опосредованным как житийной схемой, лежащей в основе романа, так и другими архетипичными эпизодами в романе. Эта притча соотносится с рассказом доктора Герценштубе о фунте орехов, который он однажды принёс маленькому Мите в его заброшенном детстве. И Митя с благодарностью принял подарок, навсегда запомнив доброту старика (в душу заронилось зерно добра). Притча «о луковке» отражается в этом случае как в зеркале: важным становится не только факт поднесения, но и умение принять с благодарностью. Как пишет Екатерина Струкова, речи персонажей произведения характеризуются разными типами притч-изречений. Как правило, они соответствуют общему рисунку образа. Грушенька, воплощение русской национальной красоты, естественно тяготеет к фольклорному слову. Притчевые изречения старца Зосимы максимально приближаются к евангельским образцам. Иван создаёт притчу-вопрос, отражающую его духовные надломы и разрушающее страдание.
Интересно было бы определить жанр «Легенды», в котором иногда видят притчу. Сам Иван, стремясь пояснить Алёше характер своей «поэмки» «Великий Инквизитор», связывает её одновременно и с религиозной средневековой мистерией — сошествием Христа на землю, и с апокрифом, как правило, имеющим широкое распространение в народе. Но мистерия и апокриф составляют лишь оболочку, под которой скрывается, на первый взгляд, логически выверенное и безупречное, но вместе с тем извращённое толкование на текст Священного Писания. Текст Евангелия (а именно — три искушения Христа) толкует старик Инквизитор. И суть этих искушений раскрывается в их влиянии на человеческую историю. Толкование на текст Писания часто не ограничивают от притч. Так, например, к притчам относил любые подобные толкования ещё Сергей Добротворский. Литература толкований близка к жанру притчи по внешней форме: приводится образ или сюжет и его аллегорическое истолкование. Можно выделить два вида толкований: аллегорическое объяснение какого-либо сюжета, события (например, истолкование событий Ветхого Завета как пророчеств о событиях Нового), то есть аллегоризация событий, или, напротив, расшифровка аллегорических пророчеств путём их проекции на реальные события человеческой истории (истолкование Апокалипсиса), что как раз и имеет место в «Легенде». Но, как пишет Елена Ромодановская, толкования составляют «прежде всего предмет средневековых учёных штудий, в то время как притча ближе к поучению и рассчитана на широкий круг малообразованных читателей».
Но дело, думается, не только в адресате. В притче пояснение символа или аллегорическое истолкование сюжета — не самоцель, а только «изгиб в параболе»: осознав смысл аллегории, будучи потрясён самой возможностью такого сближения, понимания и истолкования притчевого сюжета, воспринимающий притчу человек вновь возвращается к этому сюжету, чтобы освятить его только что открывшейся ему идеей и уже окончательно запомнить саму эту идею в образе, навеки соединить с ним и передавать затем самому не иначе, как через образ. В толковании аллегоризация события или расшифровка аллегории есть конечная цель, искомое объяснение, а не этап восприятия, как в притче.
Таким образом, вследствие особого притчевого мышления Фёдор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы» использует различные жанровые элементы притчи. Благодаря параболичности, прямой и косвенной цитации текстов притчи, определённому типу художественного мышления («притчевости») сохраняется соотнесённость произведения с одним из важнейших жанров средневековой литературы — притчей. Это даёт уникальную возможность создавать дополнительную характеристику героев и подтекст — как всего романа, так и отдельных его частей.
Маргарита Серебрянская,
председатель Общественного Союза «Совесть»
Источники:
Материалы научной статьи Е.А. Струковой «Жанровые элементы притчи в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»;
https://ilibrary.ru/text/1199/p.45/index.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/22924/1/iurg-2007-53-03.pdf








.jpg)













































